О ГОРОДЕ (ЧАСТЬ 1)
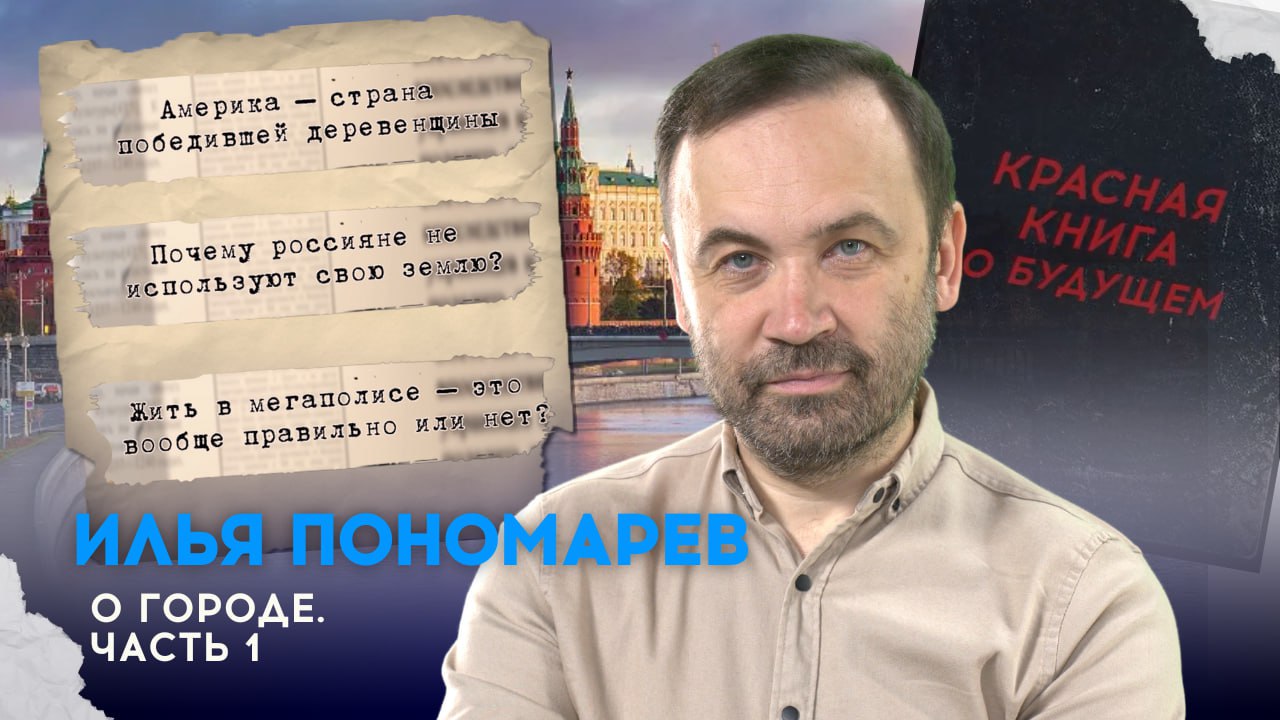
Помните глиняного истукана – российскую власть? Он живет в бетонной пещере. В каменном мешке. Он там прописан. В его паспорте черный штамп. Ему некуда деться. Мешок затянут узлом забитых красно-белыми пробками дорог. Это – российский город. А его самое броское воплощение – Москва. Столица. Велящая всем жить по её образу и подобию.
Черный бездонный мешок. В нем ни луча света. Его стены поглощают солнце, что каждый день пытается выгнать вон тьму пустой суеты из угнетенных желаний миллионов людей – сломать сжимающуюся в тугую пружину спираль жизни. Блочные коробки домов и квартир, где, когда идешь в туалет, в кухне слышно, что ты там делаешь, как смываешь воду… Соседи могут при желании подсчитать – сколько ты её слил. Где слышно, как за стенкой говорят те, кого ты, возможно, никогда и не видел. Город – вместилище отрывистых звуков – голосов, неразборчиво бубнящих слова, сигнального воя машин, гула времени, бездарно убитого в пробках… Его шум лезет в окна, а мы, привыкшие, даже не пытаемся понять его источники. Город высасывает из жильцов время, деньги, чувства, надежды, таланты, предлагая взамен жалкую защиту своих стен*** Такое положение дел характерно для индустриального общества. Современный город сложился на костях аграрного уклада и постиндустриальная формация может его изменить. Энгельс писал: «Уже в самой уличной толкотне есть что-то отвратительное, что-то противное природе человека. Разве эти сотни тысяч, представители всех классов и всех сословий, толпящиеся на улицах, разве не все они – люди с одинаковыми свойствами и способностями и одинаковым стремлением к счастью? И разве для достижения этого счастья у них не одинаковые средства и пути? И тем не менее они пробегают один мимо другого, как будто между ними нет ничего общего, как будто им и дела нет друг до друга, и только в одном установилось безмолвное соглашение, что идущий по тротуару должен держаться правой стороны, чтобы встречные толпы не задерживались; и при этом никому и в голову не приходит удостоить остальных хотя бы взглядом. Это жестокое равнодушие, эта бесчувственная обособленность каждого человека, преследующего исключительно свои частные интересы, тем более отвратительны и оскорбительны, что все эти люди скопляются на небольшом пространстве. И хотя мы и знаем, что эта обособленность каждого, этот ограниченный эгоизм есть основной и всеобщий принцип современного общества, всё же нигде эти черты не выступают так обнаженно и нагло, так самоуверенно, как в сутолоке большого города» (Ф. Энгельс, «Положение рабочего класса в Англии»). Сколько лет прошло, а как узнаваема современная Москва…***.
Такой город – порог катастрофы. Нельзя скучиваться в одном месте и отдаваться ему. В Гонконге и Сингапуре, Хьюстоне и Сан-Франциско небоскребы меня не угнетают. Закинув голову – только позвонки похрустывают – я любуюсь их последними этажами. Там, на высоте, где птицы не летают. И вообще никто не живет. В этих ажурных и воздушных стеклянных башнях люди работают, парят над миром, царят над ним. Живут они в других местах – в маленьких уютных домиках, с садиками и лужайками, куда возвращаются вечерами из искусственного полета к своему природному изначалию.
Я физик. Законы гравитации меня волнуют, и мысли о них – на сто первом этаже – не оставляют. Но я понимаю гонконгцев и других азиатов, вынужденных лепить этаж на этаж – у них нет земли. Но
как понять россиян, у которых кругом – земля необжитая, природа, реки, березы, поля, а мы толпимся в каменных мешках, сидя в которых слышим только обрывки чужих голосов?
2.
Почему мы не используем свою землю? Зачем сжимаемся в человеческие клубки в городах? В часы пик мы вкатываемся в метро, шаримся по станциям и переходам, истончаемся, превращаясь в нити, вползаем в офисы, чтоб вечером выползти. И вновь, теряя свою личность, толкаясь, суча локтями, спешим домой – в бетонную коробку, дот с бойницами окон. Когда мы переступаем его порог, мы – повторяю: переступаем порог катастрофы.
Одна из лучших виденных мной символических иллюстраций большого города – фото, однажды разлетевшееся по Сети. Голый мужчина в центре Садового кольца у «Атриума», что рядом с Курским вокзалом, молится, воздев руки. В соцсети он явился на фото и в коротких видео, снятый по-разному и с разных точек: сзади рельефный; выпуклый сбоку и спереди… И все смеялись. Делились. Обсуждали, гадая: он молится скупому солнцу Москвы? Или поздравляет дам с их днем – на дворе март? Мимо мчат машины – он стоит на осевой. Сиренит «Скорая», но едет не к нему. Прохожие снимают телефонами его, друг друга, и всё, что едет мимо. А голый мужчина молится в центре города своему Молоху – это факт. Кто он: психопат в весеннем обострении или жрец жуткого бога каменных джунглей?
Кто станет отрицать, что мегаполис меняет людей? Они здоровыми, сильными, румяными едут сюда из дальних больших и малых городов, сел и деревень, а здесь чахнут, теряют силы, копируют общий ритм, покупают гаджеты и теряют понимание сути вещей, присущее деревенским. На селе нехватку информации заменяет интуитивная народная мудрость – так у слепого развивается чувство незримого пространства. А в городе её заменяют буйные зрелища и жвачка новостей, часто ложных. Порой ампутированный им орган болит, велит ни во что не верить и агрессивно реагировать на мнения окружающих, особенно, если те – «в авторитете».
Утрата умения чувствовать, рождает отчуждение. Отчуждение в толпе – особая черта города. Согласно законам «физическим», нельзя быть отчужденным, когда в тебя со всех сторон тычут локтями. А город доказывает: можно.
Я часто видел в ленте ролики с голым мужиком. И спрашивал себя: «На фига это мне?» И кликал ссылку. Вид сбоку мне нравился больше – рельефностью. Читал комментарии. Правда, ни разу не лайкнул.
Думал: в этом есть что-то очень нездоровое. Какое-то разложение ума, рождающее гнилые слова, мнения, субъективность. Оно случается у людей в темных, давно не проветренных местах. Разденься мужик в до-айфонные времена, его б увидела пара десятков прохожих, кто-то из соседнего магазина вызвал бы неотложку и милицию, прохожие бы разошлись по домам рассказывать близким на кухне, что они видели. Несчастье (если оно – несчастье) не стало бы прилюдным. Но сегодня в городе, где отчуждение в толпе зашкаливает, блогеры и фейсбукеры не над мужиком ведь смеются. Размещение этого снимка – немая просьба увидеть его автора. Кровоточащая попытка привлечь внимание к себе. Жилец большого города устал от одиночества в толпе. Встреча с голым мужиком для прохожего с айфоном – звездный час, редкий бонус, выданный столицей – несколько десятков, а если повезет – сот новых читателей-френдов. Способ использовать другого, чтобы одолеть своё одиночество. Мне жаль горожанина. Я его ни в чем не виню. И делаю ему предложение.
Но сперва представьте его в деревне. Разденься он и бухнись в мокрые колеи, воздень руки к небу, и первым порывом сельчан было бы накинуть на него одежду, успокоить и, может быть, отвести в храм – если уж так охота молиться. И это была бы совсем другая жизнь. Я не говорю, что горожане хуже. Это город хуже. А там, где люди не топают по асфальту, а касаются ногами земли, дыша свежим воздухом, царит сама жизнь – без истерик и сомнениями у психоаналитика, но с добрыми порывами.
3.
Я знаю большую страну, где нет городов. Ну – почти нет. А точнее – так: там нет горожан. Это Америка. её небоскребы и «каменные джунгли» – декорация, визитка, пыль в глаза гостям. Для меня города – только Нью-Йорк и Лос-Анжелес. Последний – с известной натяжкой. Может, ещё Чикаго. Остальное – большие, бесконечные деревни, воспетые Ильфом и Петровым в «Одноэтажной Америке». Деревня, стилизованная под Рим – Вашингтон. Курортная деревня – Майями (причем одна – для шумных и непутевых русских депутатов и поп-звезд, и совсем другая – для солидных и уважаемых американских старичков). Деревня нефтяников – Хьюстон. Деревни ученых – Кремниевая Долина и Бостон. Пятизвездная деревня – Голливуд. И не менее звездный деревенский балаган – Лас-Вегас…
Америка – страна победившей деревенщины.
Или людей, вернувшихся к корням, если угодно. И тем прекрасна.
Американцы наивны. Они не знают слова «нельзя». Они раскрепощены и всюду – как дома. Их грандиозный эксперимент доказал: деревенский образ жизни устойчивей и жизнеспособней городского. Индустриальный Юго-Восток планеты собирается в городах, а её постиндустриальный Северо-Запад возвращается к природе.
Порождёние американского образа жизни – Интернет – путь к созданию всемирной деревни. Теперь можно зарабатывать деньги, не сбиваясь в кучу. Не надо каждый день по гудку, будто по зову дикого чудища, входить в одни и те же тяжелые ржавые двери мрачного завода. Бывший завод теперь – стильное и светлое жилье. Я, кстати, больше всего люблю жить и работать в производственных интерьерах, лофтах, напоминающих чем-то рыцарские замки Восточной Европы. Рядом с картонно-панельными коробками квартир они выглядят настоящими. Конкурировать может только бревенчатая изба.
Так вот, Интернет создали в 1969 году как структуру коммуникаций и управления, не имеющую центра. Множество отдельных узлов гарантирует её выживание в ядерной войне. Рассредоточение, отказ от скопления пользователей (сетевых жителей) и серверов (сетевых ресурсов) в одном месте – чем не антипод перегруженной людьми и машинами городской среды?
В виртуальном мире люди реализуют протест против скученности городов и стен, отделивших их от природы. И делают мир реальный всё больше схожим с фантазией – строят дома, как в компьютерных играх, придумывают вещи, как в Сети, говорят, как там. Мы уже почти не общаемся во дворе, на улице, с соседями, прохожими. Предпочитаем сообщества, выстроенные на других основах – прежде всего, профессиональных.
Порой мы больше общаемся с друзьями, коллегами и родными из других городов и стран, чем с теми, кто живет с нами в одном доме.
Человечество столетиями меняет среду обитания. Сперва живет толпой в пещерах, толпой же охотясь на мамонта. Пещера – тот же многоквартирный дом. Точнее – коммунальная квартира. Но мамонт вымирает, люди приручают лошадей и кочуют, ставя отдельные, но временные шатры. Потом – осваивают земледелие, превращают шатры в дома, строят селения – деревни. Приходят новые опасности – набеги и войны. Люди снова, по необходимости, скучиваются. Дома окружают замок с каменной стеной. Они одноэтажные, потом растут ввысь. Но это ещё большая деревня. Люди всё равно живут ногами на земле. Одна семья – один дом. Пока не создают огромные производства.
4.
«Укрупнение» и «уплотнение» в стиле председателя домкома Швондера не проходит безболезненно. Читая Диккенса и Гюго, мы это видим. Протест миллионов против житья в трущобах и нищете побуждает их эмигрировать и строить жизнь заново и по-другому. Штаты, Канада, Австралия, Новая Зеландия – просторные края. Они растут в ситуации ослабленного контроля, по причинам, прежде всего, религиозным. В Латинской Америке, где переселение сопровождал жесткий вооруженный контроль Старого Света, трущобы ещё хуже прежних, но и там кое-где строят жизнь по-новому (скажем – в Уругвае). Освоение Сибири идёт по тому же пути, и города там не такие, как в Центральной России.
А Америка живет, как тысячу лет назад весь мир: одна семья – один дом. Дом, газон, косилка – мечта. Для многих она сбылась. Америка – большая. Меньше России, но проблем с землей там нет. Как и с населением – американцев в два с половиной раза больше, чем россиян. Там хочется плодиться и размножаться.
Там, если ты хочешь землю, ты её получишь. Поди получи в России! Хотя бы кусок мерзлой земли в Сибири. Для чего хочешь – для огорода, завода, дома. Я пробовал. Не получил. Поэтому нас меньше, чем американцев.
На необъятных русских просторах негде жить.
Там у людей деревенское сознание. Там жители мегаполисов любят природу, простор и свободу. А у россиян сознание городское – даже в малых городах.
В Америке власть знает: бытие формирует сознание. Город – лишь место работы, общения, развития – но не жизни. Работа не должна отрывать от естества, делать из живого существа машину. Каждой семье нужен дом, газон, рыбалка, лес, дороги и единение с природой. В России власть это тоже знает и боится: сегодня у них огород, а завтра они возьмут вилы. Так что пусть сидят в каменной тюрьме с камерами разных категорий для лиц разной важности. И всю жизнь дерутся за район получше, ресторан покруче и ночной клуб попрестижнее. А кто занял не своё место, тому налог на недвижимость насчитаем такой, что он быстро смоется в панельное Бирюлево – на свой шесток.
Я использую как пример американцев не потому, что они лучше или хуже нас. А потому, что он показывает, что могут делать люди, оказавшись одни (индейцев после поразивших их эпидемий стало слишком мало, чтобы противостоять белым) на огромной территории, когда они могут строить жизнь, как хотят. Предоставленные сами себе, они проходят через изоляцию, крепнут, начинают верить в своё превосходство; и вот уже вчерашние бесправные беженцы сами учат мир, как ему жить.
Понять источник чужой силы – значит самим стать сильнее.
На примере многих стран видно: новый класс хочет жить в своих домах, чувствуя силу земли. Формировать ядра новых поселений по общности интересов. Жить рядом с себе подобными. Оставшись в человейниках, не создав личное – назовем его деревенским – пространство, он замрет и не сможет развиваться. В медицине есть термин «литопедион» – плод, развитие которого в матке остановилось, но он в ней остался и окаменел. Если новый класс России останется в городах, он, как литопедион, рискует окаменеть в каменном мешке. Стать ребенком, который никогда не родится.
Одна из ключевых проблем России – желание всё стащить в Москву. Столица, как желудочно неудовлетворенный кадавр из книги Стругацких, тянется за всем живым и съедобным во всех уголках страны, и тащит это к себе. Это неправильно для России, для Москвы и москвичей, и несправедливо для большинства русских.
5.
Хорошая работа должна ждать россиянина не только в Москве. Но и в Новосибирске, Курске, Иркутске, в малых городах. С ней – интересный досуг и качественные услуги. Сейчас они есть только в столице. Как и головные структуры крупных бизнесов. Там решают деловые и личные проблемы. Даже сбежать из России – и то легче из Москвы!
Но разве невозможно при таких необжитых просторах строить комфортное, как в журналах, жилье, скажем, в Дубне? Школу, больницу, детсад? Это вопрос организации финансирования стратегических задач страны. Пример наукоградов в советское время показывает – когда хотели, создавали комфорт не хуже западного. Но хотели редко.
Как-то в 2002 году мы говорили с Анатолием Карачинским – создателем одной из самых успешных российских инновационных компаний IBS, где я был вице-президентом по связям с госорганами. Анатолий был (и остается) одним из главных защитников российских программистов. И делает всё, чтобы они не уезжали в разные заграницы, по Microsoft’ам и Googl’ам. Он был крайне озабочен:
Ему тогда принесли результаты исследования – Карачинский любит исследования, и делится ими с руководством страны – там было сказано, что
главная причина отъезда наших за рубеж – жилищная.
Точнее, недовольство всей средой своего обитания – от здравоохранения и образования до политики.
Он протянул мне отчет:
– Прочти. Видишь, теряем кадры! Я думаю, надо строить новые города. Для программистов.
И, помолчав, продолжает:
– Илья, мы должны мыслить системно, – это ещё одна его фишка – «системный подход». – Продумать всё и придумать. Я поговорю об этом с Путиным. Возьмешься?
Отчего ж не взяться? Задача интересная, нужная.
– Но помни: пока он считает высокими технологиями только продукцию ВПК. Что такое компьютер, во власти никто не знает. Разве что Греф с Рейманом*** В 2002 году Герман Греф был министром экономики РФ, а Леонид Рейман – министром информатизации, телекоммуникаций и связи. Оба считали себя самыми деловыми, продвинутыми и конкретными министрами и конкурировали по любому поводу. В частности, они соревновались, кто будет главным организатором российской системы поддержки инноваций.***… Но они никогда не объединятся. А Греф вообще, что тот новейший суперкомпьютер. Всё его процессорное время съедает переключение между задачами. В общем, воображение Путина надо чем-то поразить, подумай, пожалуйста…
Я думаю. И воображение Путина удается поразить в конце 2004го индийским Бангалором – оазисом программистов, созданном в прежде нищей и коррумпированной Индии. Греф и Рейман, конечно, начинают перетягивать канат, да с такой силой, что рвут его пополам – так рождаются особые экономические зоны (имени Грефа) и технопарки (имени Реймана). Как в старом анекдоте про русских, которые на глаз копали с двух сторон тоннель под Ла-Маншем – получилось два тоннеля. Но два лучше, чем ни одного, не правда ли?
В 2006 году я возглавляю наконец принятую правительством госпрограмму создания технопарков. Проблема жилья и городской среды для меня в ней так же важна, как сами инновации. Особенно, когда я приезжаю в Новосибирск, где Академгородок существует уже пятьдесят лет, а жить специалистам негде. И институты Сибирского отделения Академии наук теряют людей в два-три раза больше, чем включает их штатное расписание, и только чудом сохраняют научную школу, в отличие, кстати, от многих московских. Всё просто и ясно: людям, которые работают, надо где-то жить по-человечески. То есть – не хуже, чем на Западе. Точка.
6.
Когда-то один опытный человек сказал мне: «Нет недостойных людей, есть недостойная людей жизнь». Я вспомнил эти слова и сделал их своим девизом, занявшись технопарками. Я пытался понять, почему повседневная жизнь в России, даже жизнь ученого, так примитивно устроена?
Со строительством жилья для новосибирской научной молодежи всё растянулось надолго, и стало одной из главных моих задач на шесть лет. Решить её полностью не удалось, но я уверен, что в итоге для более чем тысячи семей будут построены отдельные дома.
В мире есть два взгляда на градостроение и урбанизацию. Первый связан с ростом (и сокращением) населения. Его главная интерес: что будет со средой обитания, когда в ней изменится количество жителей?
Я считаю, что нужно рационально планировать комфортную городскую среду. Нам важно чувствовать себя в городе дома. Поэтому планирование городских пространств, приоритет пешехода, минимум индивидуального транспорта и максимум общественного, как предлагают урбанисты – это правильно. На это надо тратить много денег. Не жадничать. Ведь среда обитания определяет мышление. В красивой, удобной, комфортной среде, где мы чувствуем, что о нас позаботились, мы заботимся о ней в ответ.
Чтобы доказать это, люди провели множество экспериментов. Классический эксперимент – с разбитыми окнами.
Доказано: если в здании разбить окно, и не чинить,
то скоро в нем будут разбиты все окна.
Как-то я спросил Рудольфа Джулиани – мэра Нью-Йорка – как он боролся с преступностью. И он рассказал про свой подход. Направлений было два: первое – введение очень жесткого управления работой полиции: второе – мытье поездов метро.
От полицейских стали требовать нулевой толерантности к криминалу (то есть жестко реагировать даже на самые мелкие правонарушения), переделали всю систему отчетности в участках. И параллельно – стали мыть поезда и убирать станции метро.
Прежде там было так грязно, что не удивляло, что кого-то грабят или бьют. Это казалось нормой.
Есть старый американский анекдот. Джон Рокфеллер и Пирпонт Морган решили проехать в Нью-Йоркском метро. И вот Морган видит: воришка вытягивает из кармана у Рокфеллера десятку долларов. «Джон, – говорит он, – у тебя деньги воруют». А тот: «знаю, но эта десяточка – специально для него. Вспомни, как мы начинали».
И до, и после этого случая карманное воровство, драки, хулиганство, а порой и серьезные преступления десятилетиями были в порядке вещей в предельно загаженной подземке.
И вот в Нью-Йорке проводят генеральную уборку подземки и прекращают выпускать на линию разрисованные граффити поезда. Резко усилив при этом полицейские патрули.
И меняют город буквально на глазах. Люди видят: власти заботятся о месте, где они живут. Видят, как с улиц уходят мелкие криминальные группы. Как меняется структура преступности. За несколько лет команда Джулиани превращает Нью-Йорк – криминальную столицу Америки, город откуда, по мнению социологов, большинство жителей хочет уехать – в город, где большинство жителей желает остаться. «Большое яблоко»*** Big Apple – так американцы часто называют Нью-Йорк. теряет своё мрачное звание.***
Для меня это классическая иллюстрация ситуации, когда облик городской среды сильно влияет на качество жизни в целом. Им надо заниматься в первую очередь.
7.
Городские водители сильно недовольны, когда их заставляют платить за парковку. Они не понимают, что высокая плата за парковку вызвана не стремлением властей больше заработать. Хотя и это, думаю, городу полезно – можно тратить этот доход на модернизацию и наведение порядка. Однако главный смысл платы за парковку не в том, чтобы было удобно, а чтоб люди в город не ездили. Жадничали и не ездили.
Город надо постепенно избавлять от частных машин и внедрять общественный транспорт. Это сделали в том же Нью-Йорке. И сегодня, когда мне надо по работе ехать туда из Вашингтона, я еду на автобусе. Так удобнее. И намного дешевле. Доехать туда из столицы и обратно в машине, с учетом цен на бензин, платные дороги и парковку, стоит порядка 150 долларов. На поезде – 120. На автобусе – 15.
Цена парковки на Манхэттене сейчас абсолютно чудовищная – 40-50 долларов в час. Там просто невыгодно владеть машиной! В Лондоне ввели плату за въезд в центр – это другой способ решения той же задачи. А также помогает уменьшить пробки. И в Нью-Йорке, и в Лондоне – везде много такси. А если такси вам дорого, а большинству дорого, и мне тоже дорого – пожалуйте в метро. Если оно есть всюду, то почему на нем не ездить? Главное, чтоб там было чисто, ухоженно и безопасно. Это – признак современного мегаполиса, где власти заботятся о качестве жизни людей.
Но встает другой вопрос: жить в мегаполисе – это вообще правильно или нет? И тут у меня с урбанистами большие расхождения. Я против запрета на строительство новых широких магистралей. На превращение автомобилистов в людей второго сорта. Без индивидуального транспорта невозможно жить в индивидуальных домах. Хотя это для меня все равно однозначно лучше житья в многоквартирных «свечках». Но я за то, чтобы загонять улицы под землю, а на их месте разбивать газоны, парки и скверы, делая жизнь легче и краше.
У меня есть приятель в Израиле. Его зовут Вова. Этот Вова для меня – прототип героя Армена Джигарханяна в фильме Георгия Данелии «Паспорт» – бывшего советского военного, знающего в Израиле все входы и выходы, включая и те, что через границу.
Вова стопроцентный еврей. И при этом – советский офицер. Он был пограничником, прошёл Афганистан, воевал на передовой, служил в спецназе. Мощный мужик – кровь с молоком. И похож на Джигарханяна. А жена его – чистая донская казачка из-под Ростова. Тоже – кровь с молоком, но это другая кровь и другое молоко. В 1990 году она начинает его пилить, дескать, «ехать надо». А он не хочет. Он советский патриот. Но Советский-то союз на глазах распадается, она его допиливает, и они валят в Израиль. И там он понимает, что ничего, кроме военной службы, не знает и не умеет. И идёт в ЦАХАЛ*** Армия обороны Израиля.***. И служит там тоже в спецназе, воюет с арабами и в пятьдесят лет выходит в отставку. Но в отставке ему скучно. И он идёт в полицию. И в итоге возглавляет израильский аналог ОМОНа.
Но и оттуда через какое-то время уходит по возрасту. И снова ему скучно. И он решает заняться инновациями. И вместе с другим репатриантом, прибывшим в Израиль прямо с мехмата МГУ, строит инновационные парковки.
Парковки 3D. Работают они так: машина заезжает в подвижную ячейку, и она уходит под землю. В объемный кубик, работающий, как детские пятнашки. Для крупных городов – прямо находка.
Я к нему приехал в субботу. Он говорит: «вот наконец нормальный человек приехал, пошли шашлык готовить». А жена его – казачка – из синагоги не выходит. Приняла гиюр*** обращение нееврея в иудаизм, а также связанный с этим обряд.*** и стала религиозной. А он в шабат жарит свиной шашлык и строит инновационные парковки, всерьез разгребающие улицы, плотно уставленные машинами в Тель-Авиве и Хайфе.
Я, вернувшись в Россию, показываю Собянину Вовин проект – хочу внедрить в Москве его парковки. Не удалось, к сожалению. Для московских чиновников это оказалось слишком необычным. Но такое решение – лучший вариант. В любом случае, для меня идеальная версия города – минимум машин на улицах. Эта стратегия мне понятна. Она мне близка по духу.
Продолжение следует…








