ПОСЛЕДНЕЕ
Я Дон
Я Марк
Я идиот
Стоящая dсь Петербург
Стоящая aergaergargaergdсь Петdрг

13 сентября, 2023

13 сентября, 2023

13 сентября, 2023

11 сентября, 2023

7 сентября, 2023

6 сентября, 2023

5 сентября, 2023

30 августа, 2023

30 августа, 2023

29 августа, 2023

24 августа, 2023
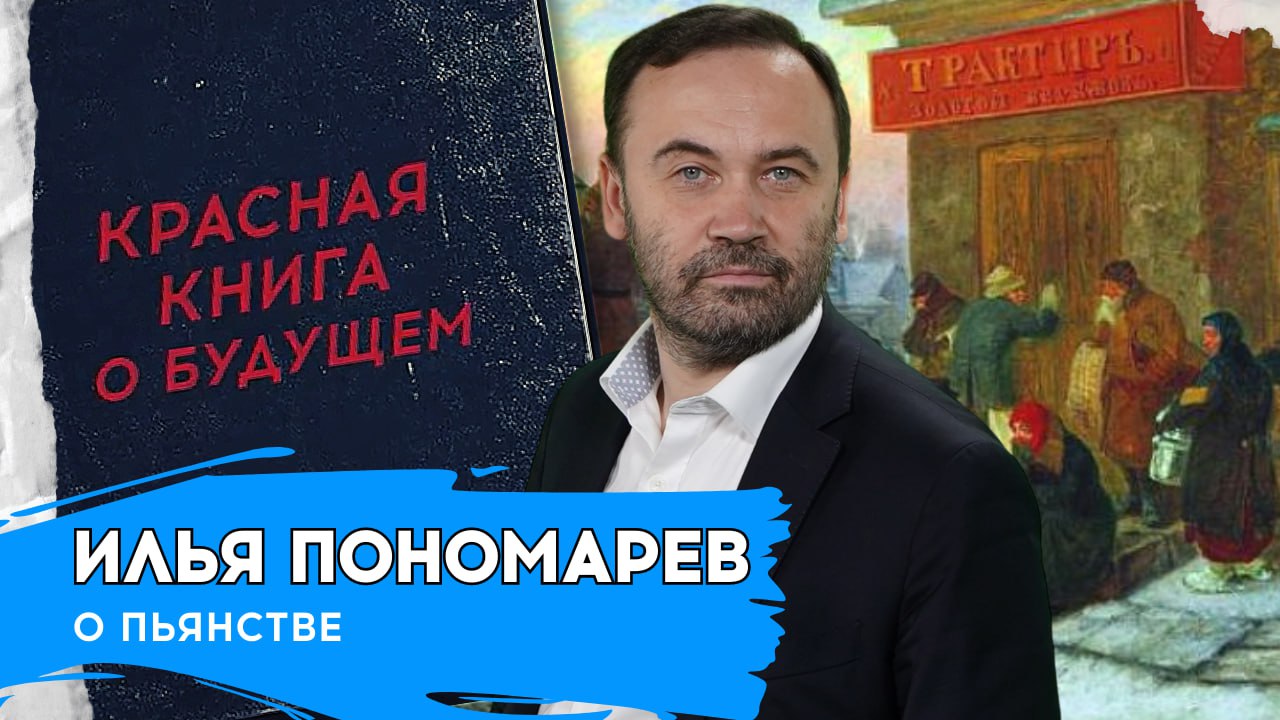
22 августа, 2023
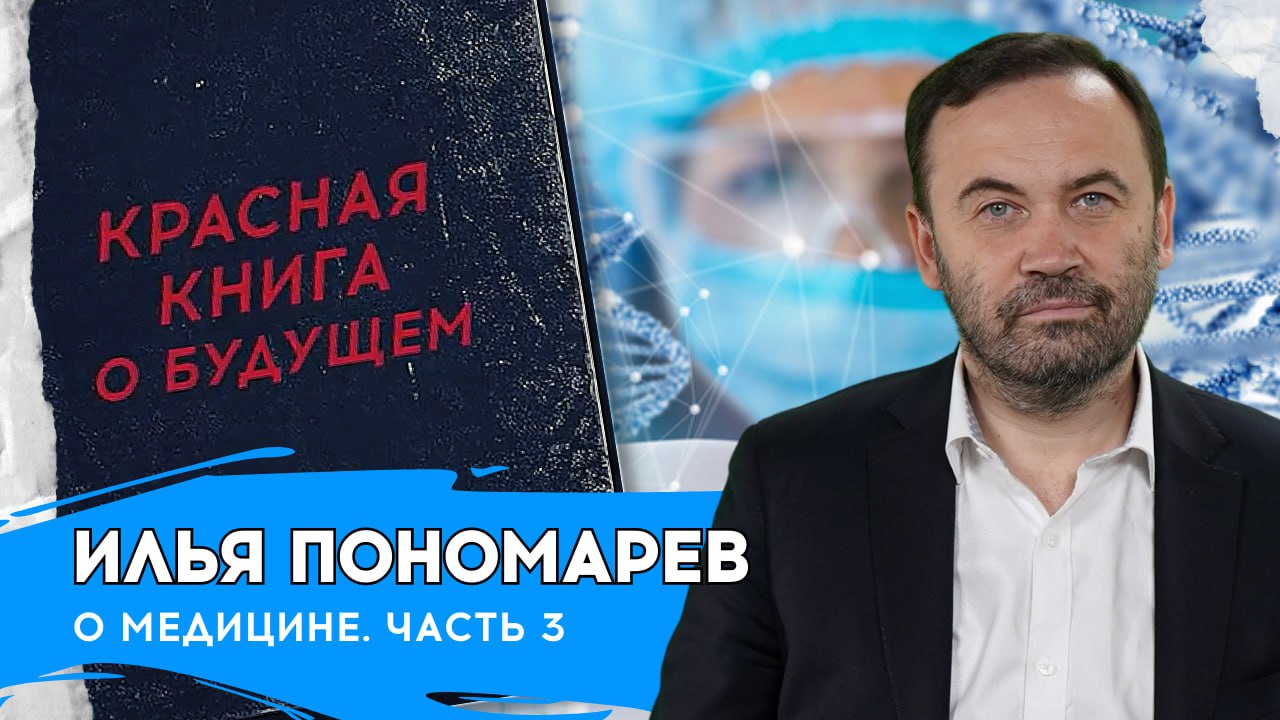
22 августа, 2023
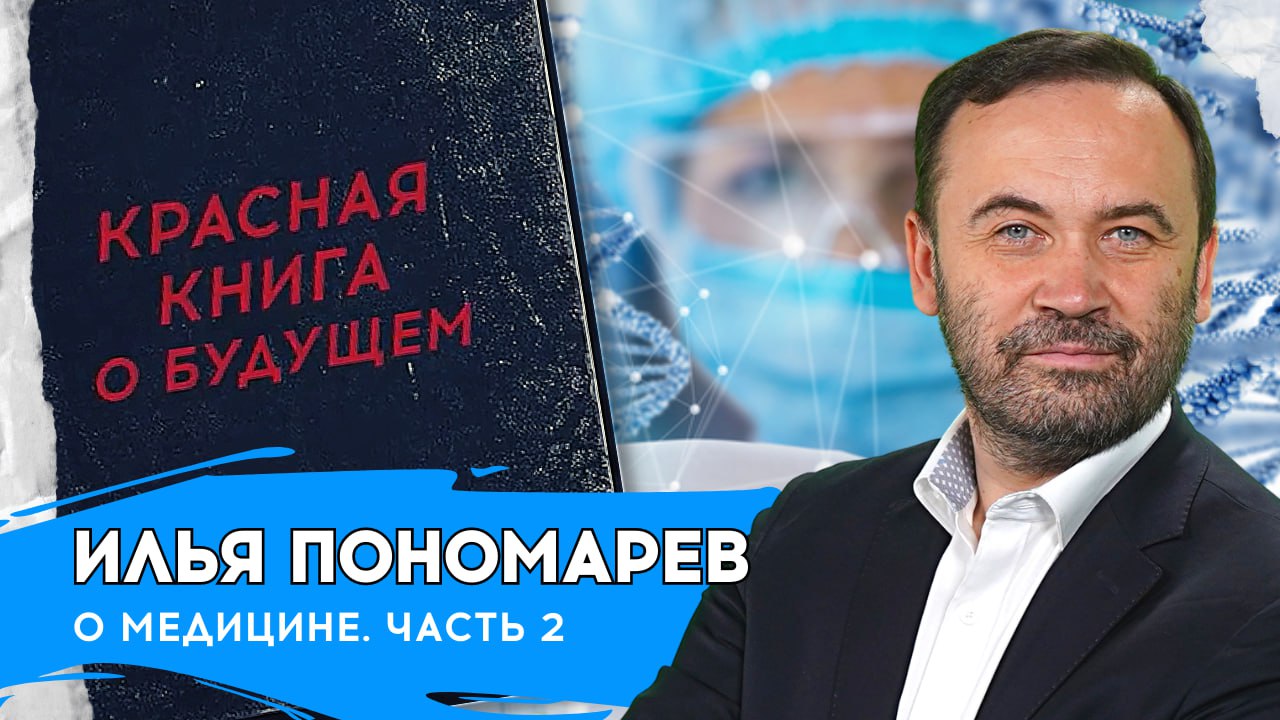
15 августа, 2023
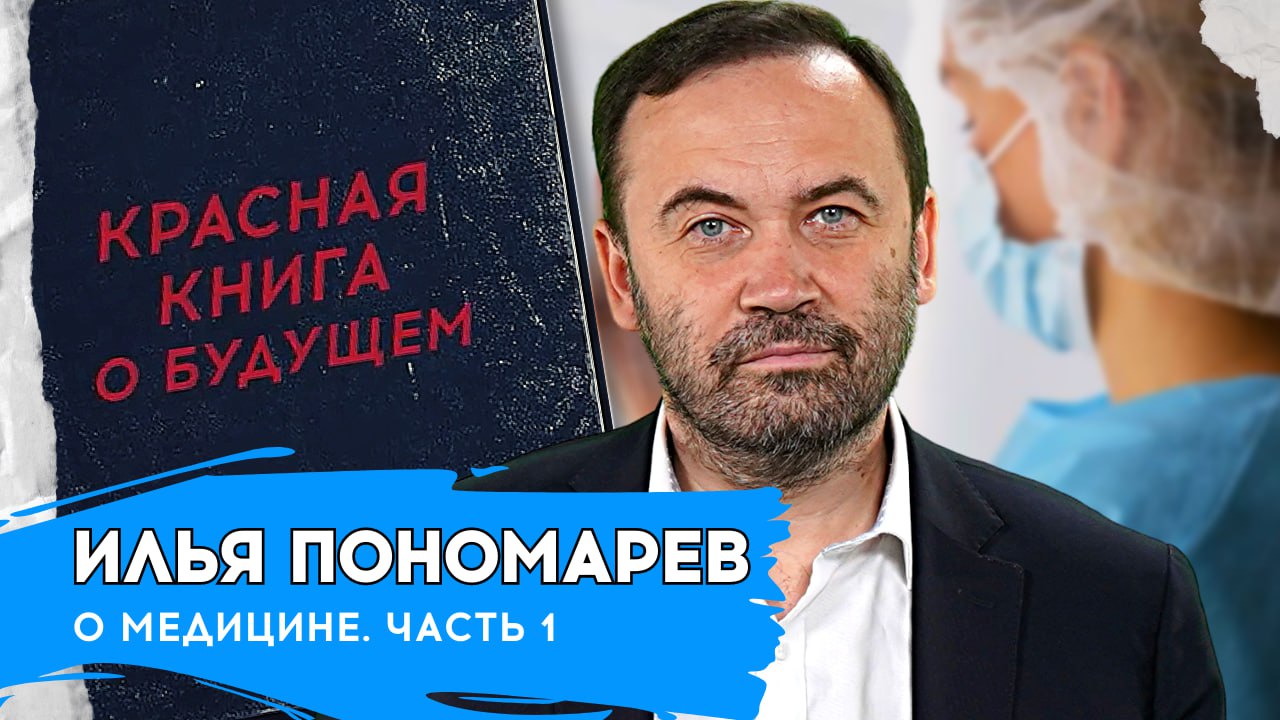
9 августа, 2023
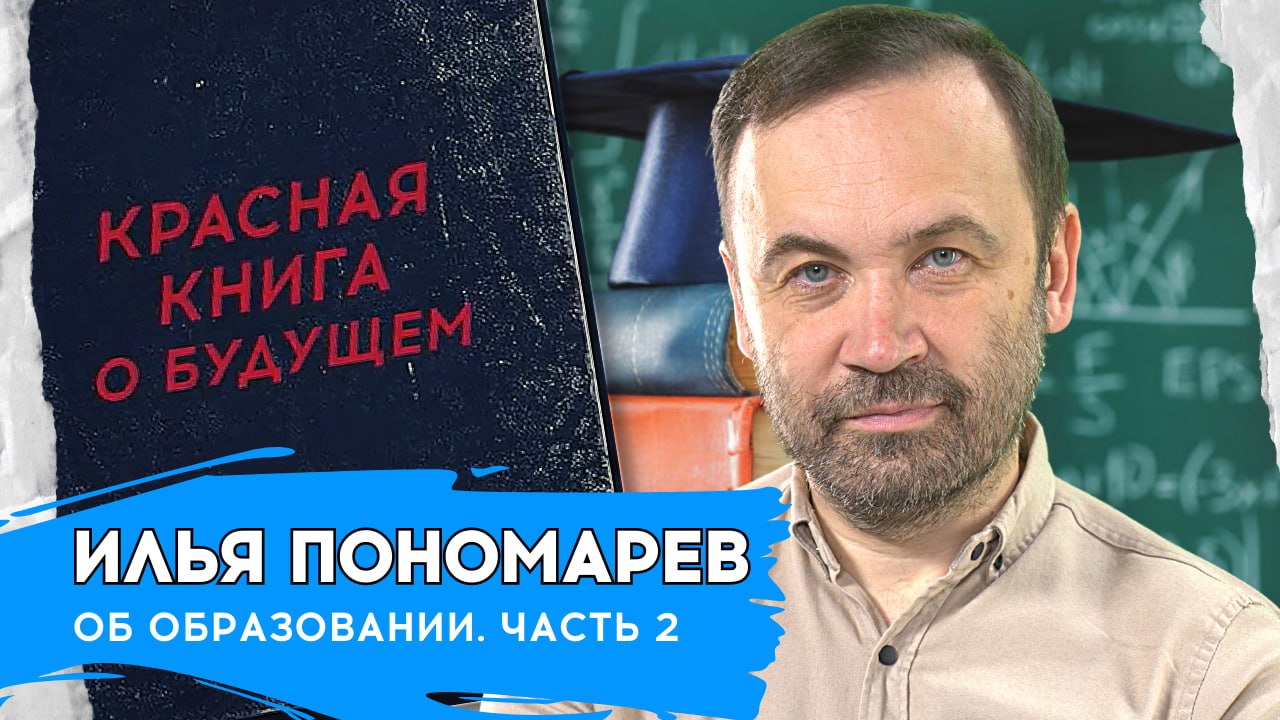
8 августа, 2023








