ПОСЛЕДНЕЕ
Я Дон
Я Марк
Я идиот
Стоящая dсь Петербург
Стоящая aergaergargaergdсь Петdрг
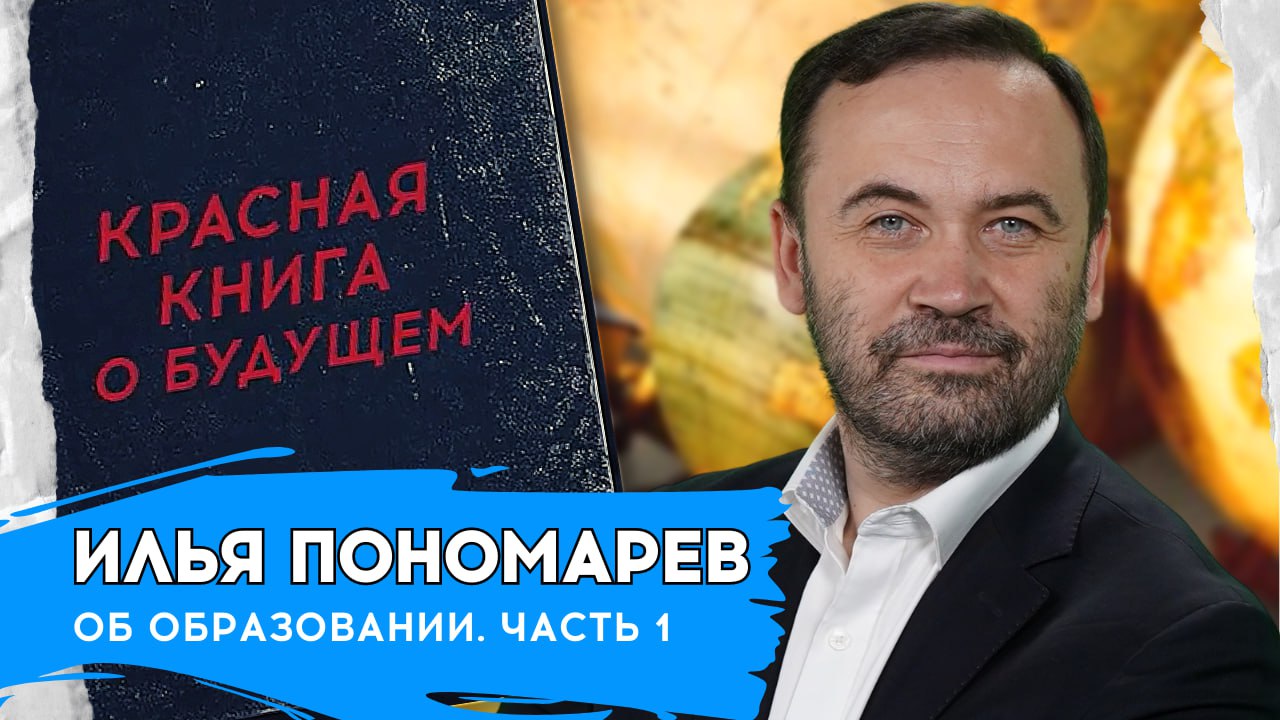
8 августа, 2023
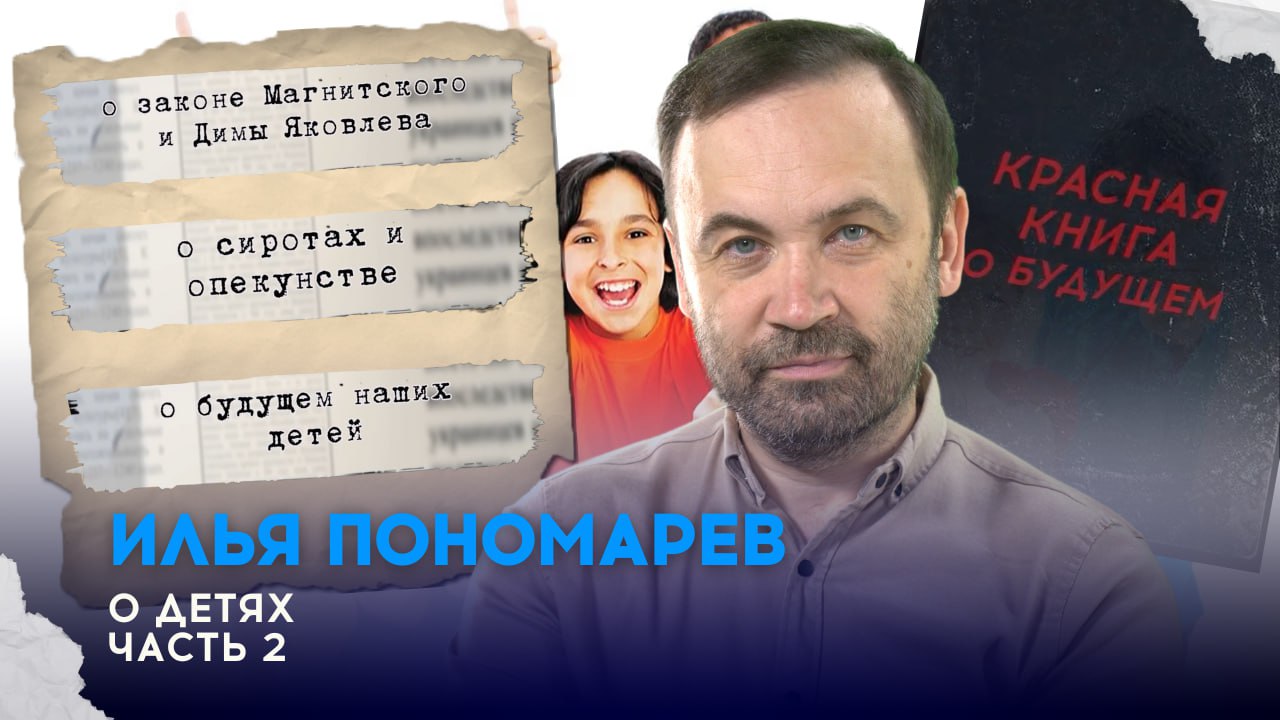
2 августа, 2023
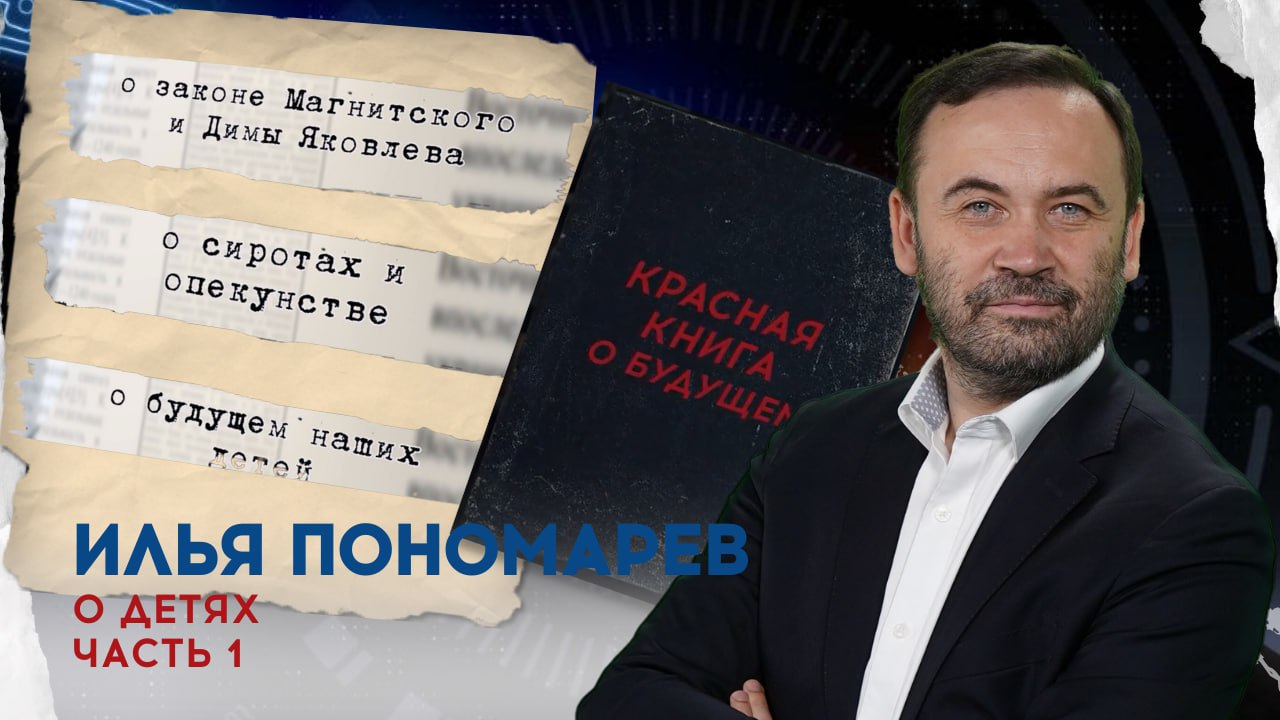
2 августа, 2023
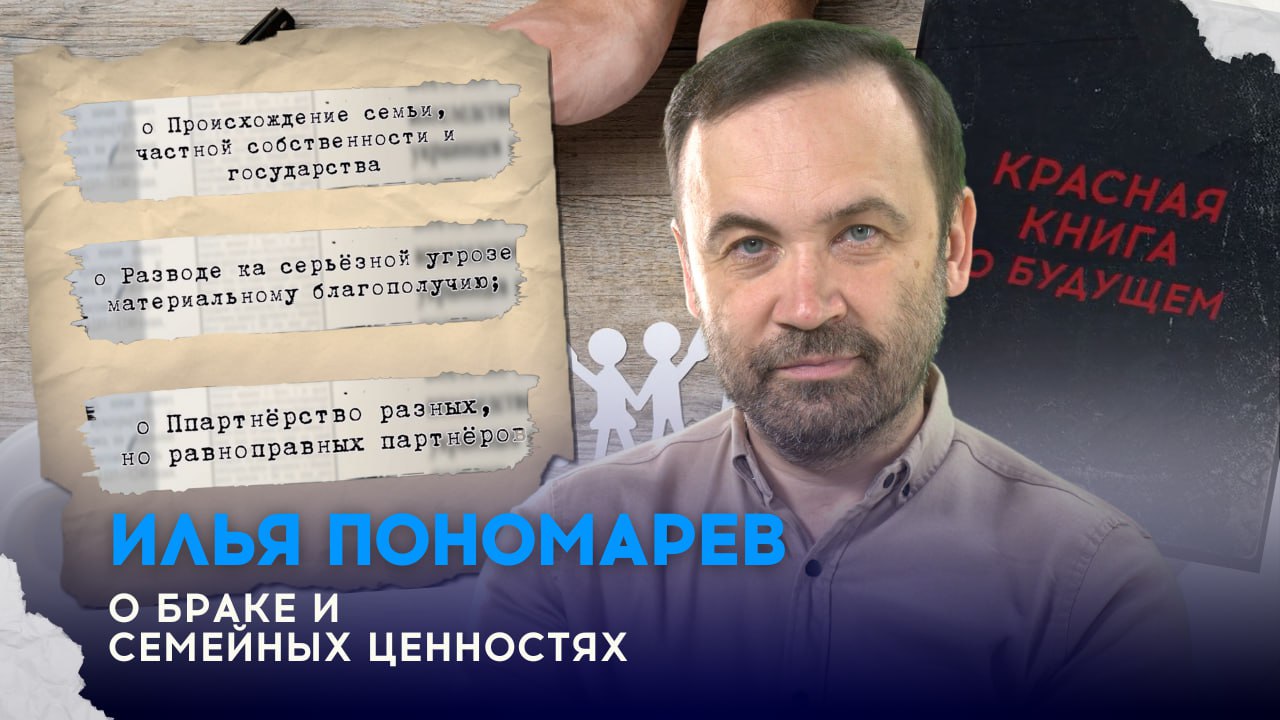
1 августа, 2023
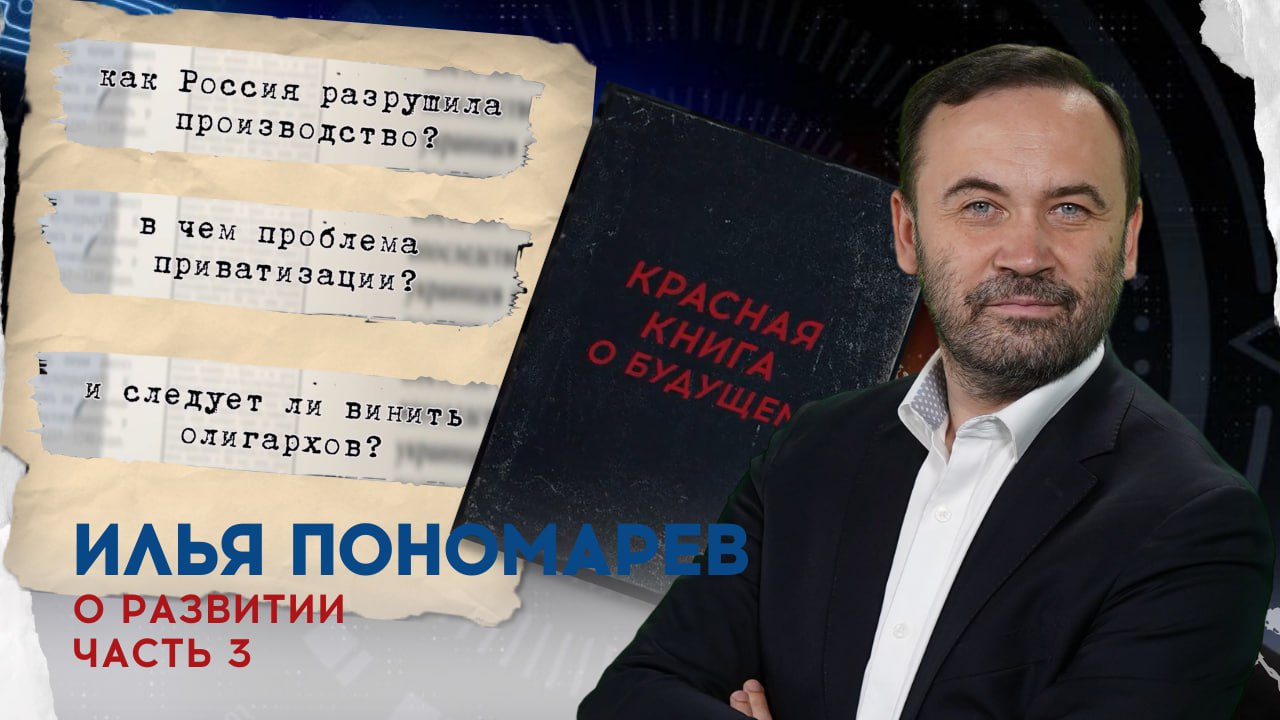
27 июля, 2023
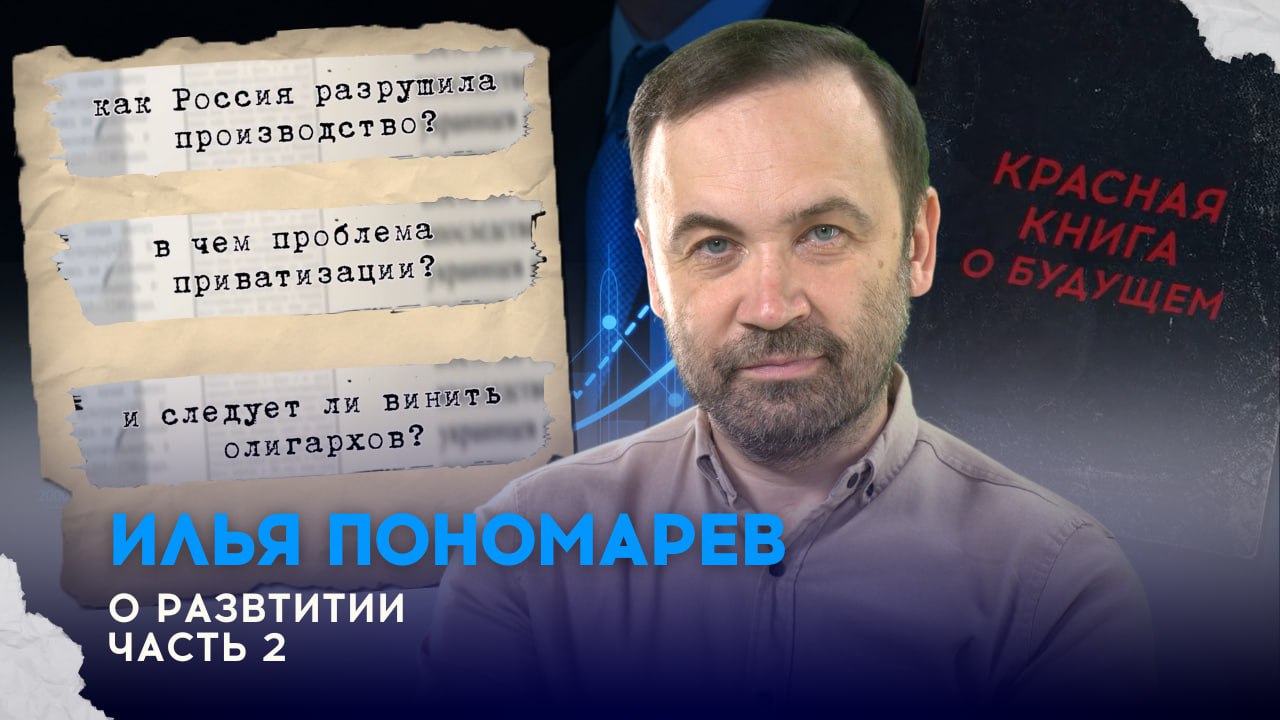
26 июля, 2023
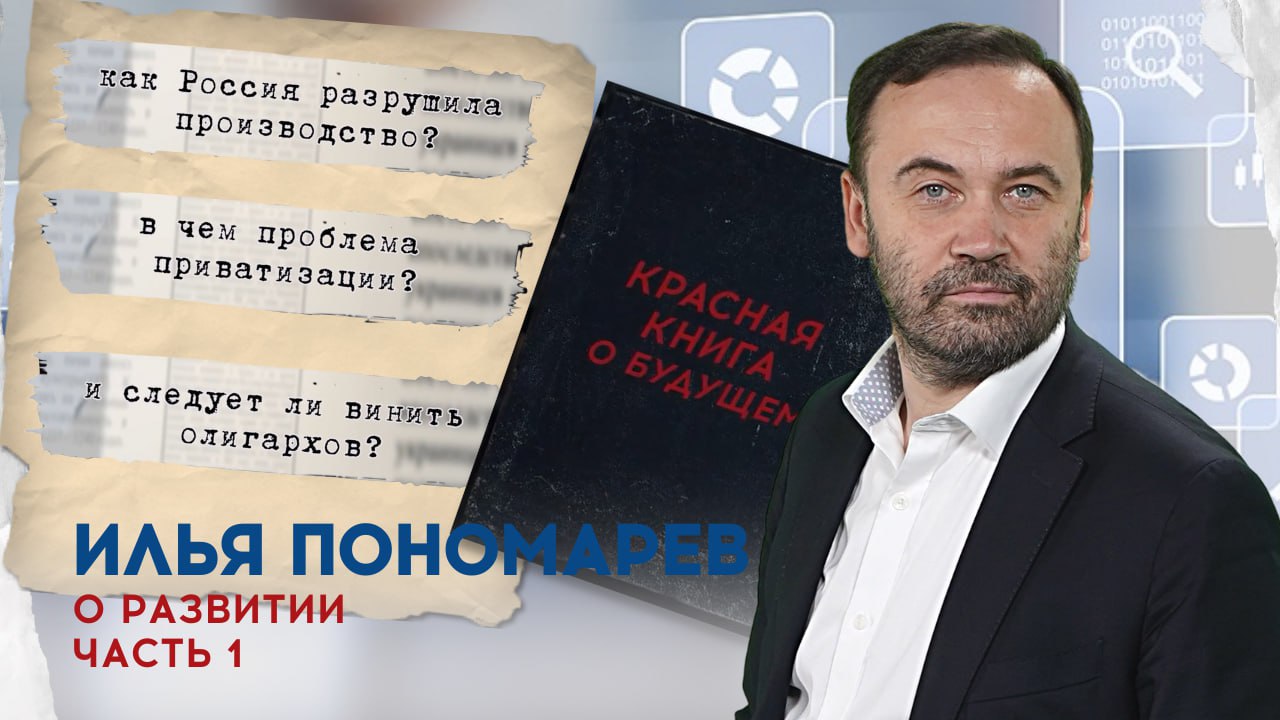
24 июля, 2023
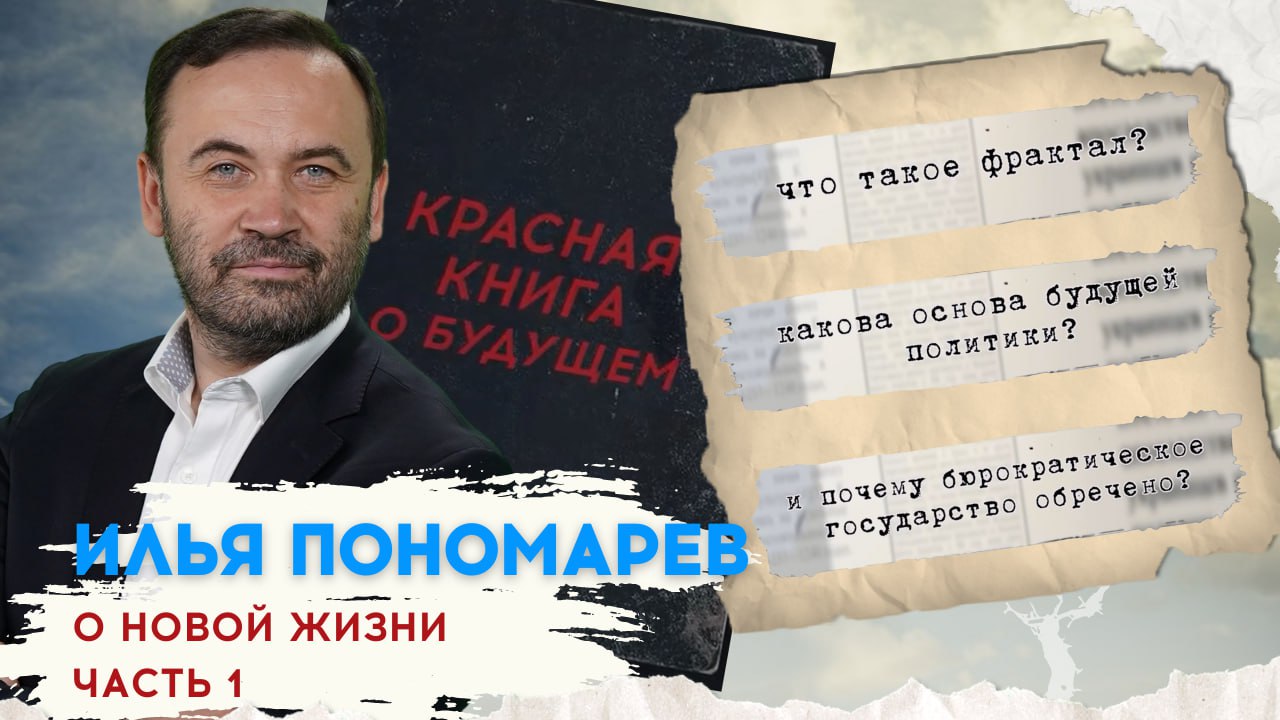
14 июля, 2023
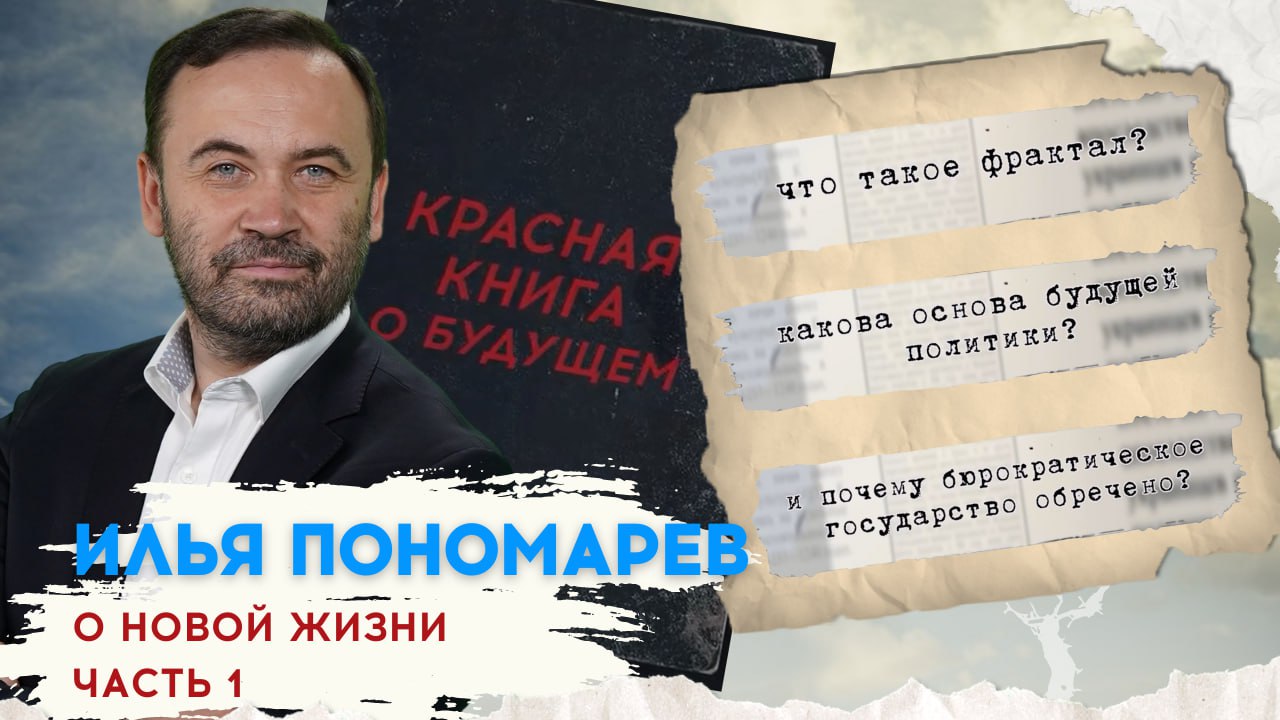
14 июля, 2023

13 июля, 2023
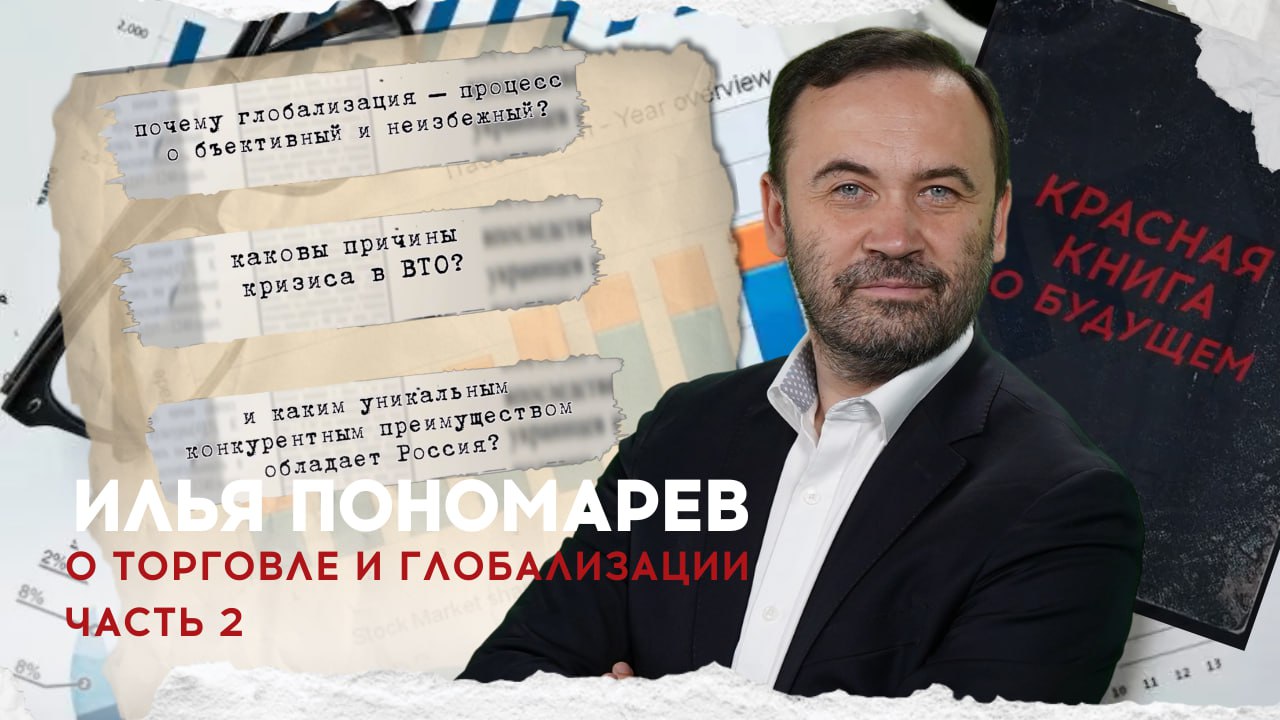
13 июля, 2023
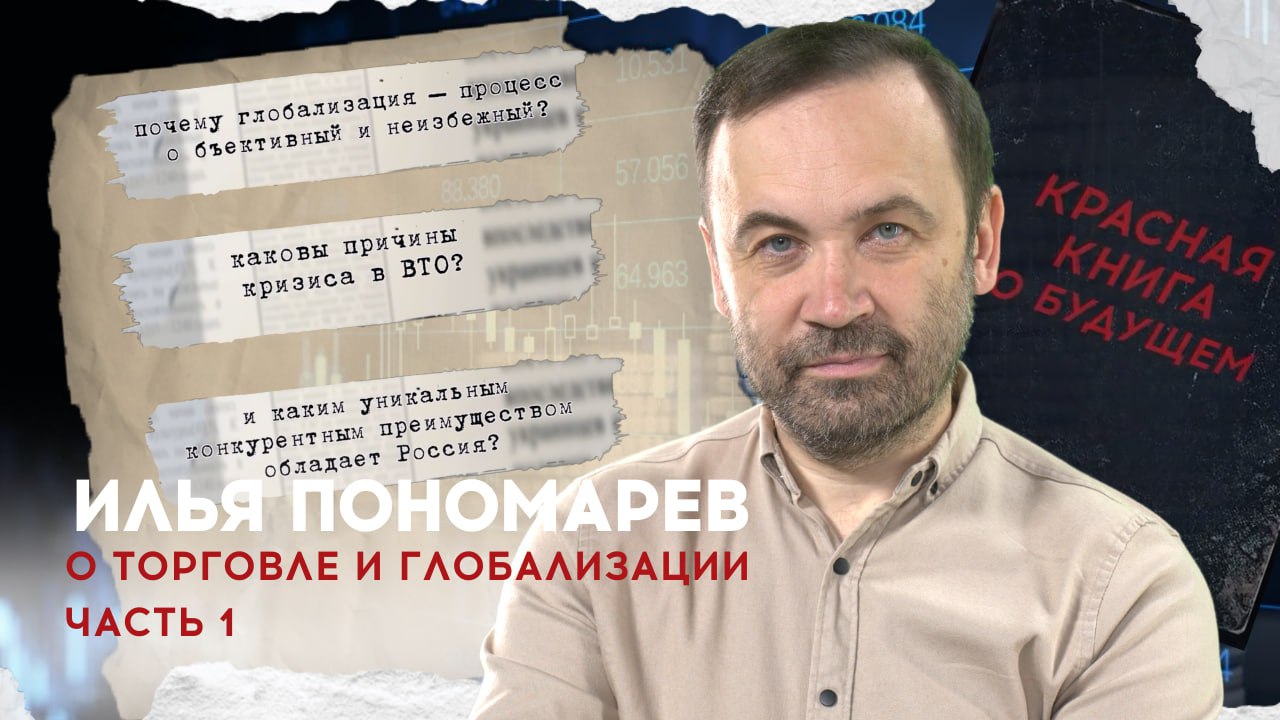
12 июля, 2023

11 июля, 2023
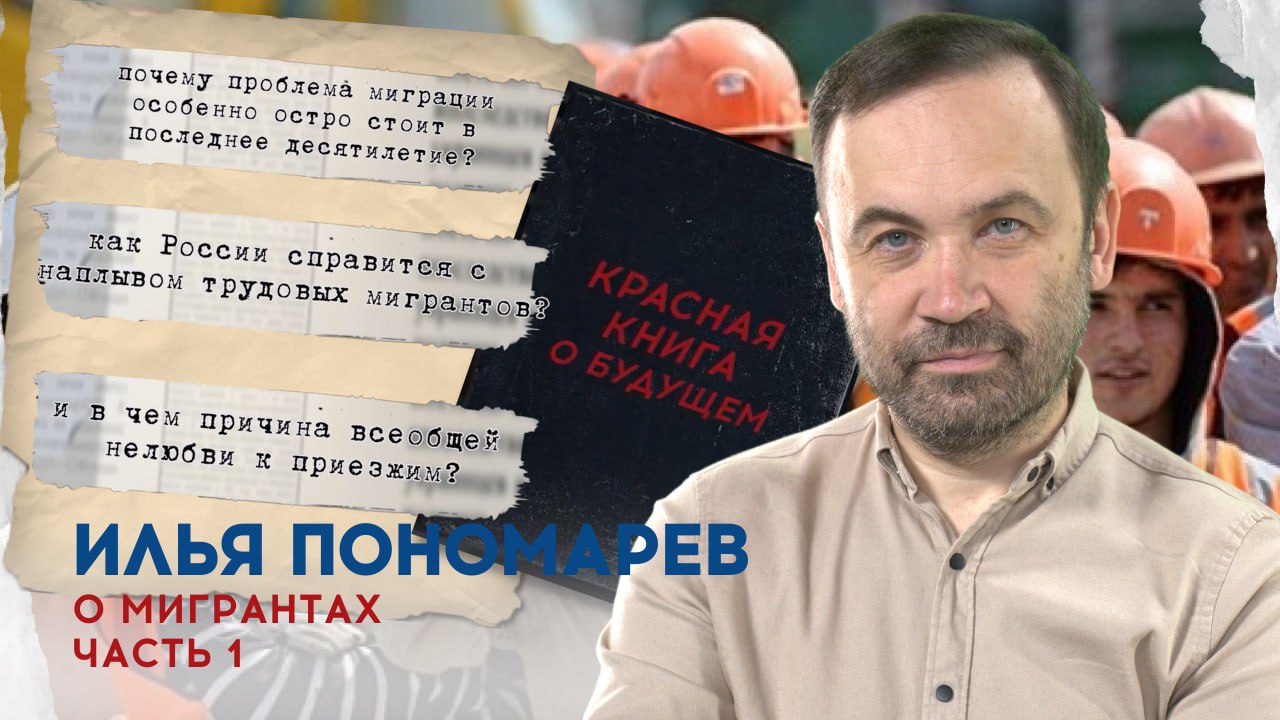
5 июля, 2023
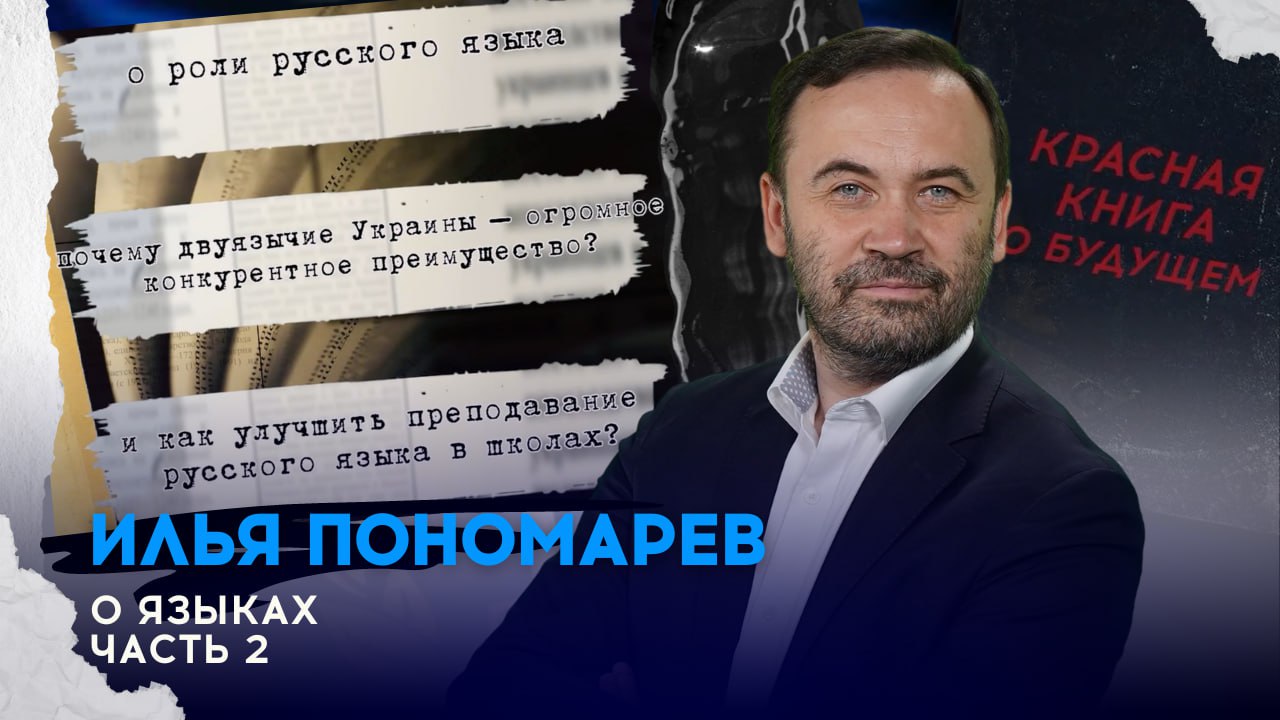
4 июля, 2023
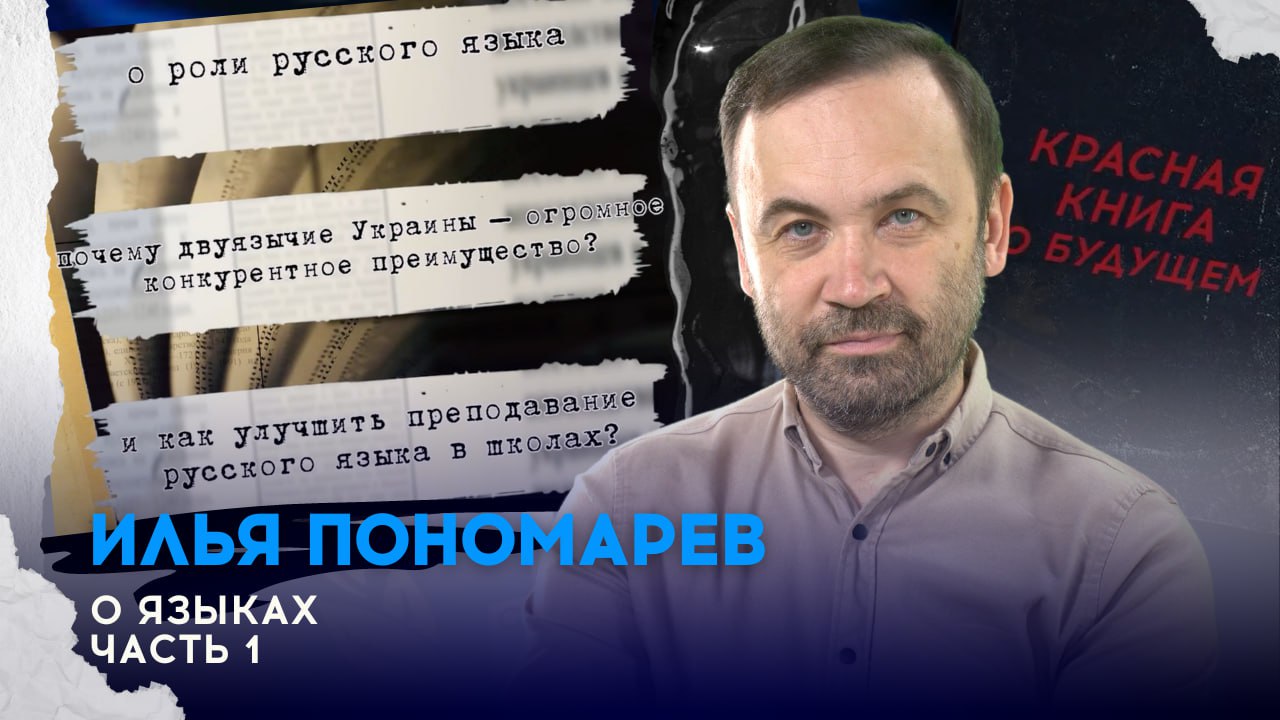
3 июля, 2023








